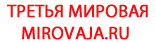Krytyka Polityczna: Эта война сделала меня черствымKrytyka Polityczna, Польша  Krytyka Polityczna: Война на Украине продолжается уже четвертый год, недавно была годовщина «референдумов», состоявшихся в двух непризнанных республиках. В результате военных действий, по разным данным, погибло до 10 тысяч человек. После прочтения вашей книги «Война, которая нас изменила», эта цифра производит больше впечатления. Вы пишите, что перелом произошел в 2015 году: время до конца 2014 было периодом напряженного труда волонтеров, когда государство практически перестало существовать, но зато произошел общественный подъем. В начале 2015 что-то изменилось: война утратила смысл. Что произошло? Павел Пенёнжек (Pawe? Pieni??ek): Сначала вооруженные силы практически не функционировали, их собрали из относительно боеспособных подразделений и укомплектовали добровольцами. Появлялись добровольческие отряды, которые часто состояли из людей, не имевших ничего общего с армией. В первые месяцы там можно было встретить любого: продавца, менеджера, преподавателя, рабочего. На войну отправились все. В Крыму этого сделать не удалось: события там развивались слишком быстро. Ситуация застала всех врасплох: на Майдане еще не развеялся дым, а в Крыму уже все началось. К этому никто не был готов. С Донбассом было иначе: помня, что случилось в Крыму, все говорили: «Мы не позволим этому повториться». Удивительно, что такое количество людей было готово воевать. Если бы несколько лет назад кто-то сказал, что будет война, вызвалось бы человек 200, а тут тех, кто не искал никаких отговорок, нашлось много тысяч. — В начале 2015 года наступил момент, когда война окончательно лишилась смысла, если в любом военном конфликте можно вообще искать смысл. Все реже стали звучать бравурные обещания, с которых до этого на Украине начинался практически любой разговор, что скоро над Донецком и Луганском будут развеваться украинские флаги. Что произошло, почему именно этот момент оказался важным? — Это было окончание процесса, который начался с битвы за Славянск весной 2014 года или даже чуть раньше, когда российская армия активизировала действия в Донбассе. Говорилось, что туда стягивают несколько тысяч солдат, появились видеоролики, показывающие, что в Донбасс движутся танки и артиллерия. Ключевую роль сыграла битва за Славянск — небольшой город с примерно 20-тысячным населением, расположенный на востоке от Донецка. Казалось, что это очередной населенный пункт, который получится легко отбить, чтобы в итоге окружить Донецк. Но украинцев разбили, а сепаратистам по итогам первых минских соглашений удалось получить гораздо больше территорий. Дальнейшие бои за Донецкий аэропорт в январе и феврале 2015 года стали заключительным этапом этого процесса. Украинцы стали говорить не о том, что все можно вернуть, а о том, что на это нет никаких шансов. Мысль была одна: лишь бы не потерять еще больше. — Бои за Донецкий аэропорт — это интересный эпизод. С одной стороны, те, кто сражался за него до самого конца, стали героями. С другой, из вашей книги следует, что эта борьба была бессмысленной. Напрашиваются вопросы, существовала ли какая-то реальная достижимая цель? — Я провел неделю в поселке Пески, который находится неподалеку от аэропорта. Я разговаривал с бойцами из «Правого сектора» (запрещенная в РФ организация — прим. ред.), спрашивая, чего они добиваются. Они стояли в старом терминале Донецкого аэропорта, но отступили, когда сепаратисты и Киев заключили соглашение. Руки сепаратистам они не подавали и не вступали с ними ни в какие контакты. Эту операцию сильно критиковали, а большинство участников боев понимали, что аэропорт, над которым летают снаряды, и от которого остались только бетонные плиты, — это политическая, а не стратегическая цель. Важно было продемонстрировать символический аспект борьбы, мощь Украины и то, как сильно она страдает от российской агрессии. — Вы пишете так: «Спустя три года после начала вооруженного конфликта на востоке Украины его перестали называть "войной, которая нас изменила". Сила его воздействия на общество преуменьшается, тема вытесняется из сознания, будто в этом кроется нечто мрачное, в чем никто не хочет признаваться». Кого и как изменила эта война? — Я считаю, что она изменила всех. Мы говорили о добровольцах, которые рисковали собственной жизнью и отправились на фронт защищать то, во что они верили: идею, что Украина вернет себе прежние границы, изменится к лучшему, обретет хорошее руководство. Так подействовал Майдан. Сепаратисты тоже пережили разочарование: победа в Луганске спасла их от полного краха, возможно, дала им вторую жизнь, но перечеркнула их мечты. Боевики, с которыми я встречался, считали, что им нечто причитается: они воевали за Новороссию, за те украинские районы, в которых должно было появиться новое государство. Они на самом деле верили, что могут его создать. Я не буду судить, насколько они были правы, но они так говорили. — Интересно, сколько людей на самом деле в это верило, а сколько руководствовалось экономическими мотивами, я имею здесь в виду российскую поддержку, о которой вы пишете… — Я не проводил исследований, так что я не знаю. По моим ощущениям, многие действительно в это верили. Можно сказать, что их обманывали, что они верили пропаганде, но вера была настоящей. Сейчас они чувствуют, что их использовали. Эти чувства разделяет также несколько сотен иностранных наемников, принимавших участие в этом конфликте. Сейчас они говорят, что цель войны стала расплывчатой, а они воюют не за то, что им говорили. Никаких идей в этом конфликте нет, это просто бизнес. — Ваша книга — это в значительной мере рассказ о нарастающем разочаровании, вытеснении из сознания. В рецензии на обложке Людвика Влодек (Ludwika W?odek) пишет: «Эта книга должна войти в списки обязательного чтения. Лучше всего для всех, но хотя бы для двух групп: для юношей в возрасте 18-23 лет, которым слишком часто кажется, что война — это романтическое приключение, и для мужчин 40-50 лет, которые не рвутся сражаться сами, но любят отправлять на войну других». На мой взгляд, у вас вышла пацифистская по духу книга. Она показывает, что война становится трагедией на разных уровнях: на индивидуальном, социальном, экономическом. Насколько это произведение родилось из ваших репортажей, а насколько стало личной историей? — В первую очередь я хотел показать, какими последствиями оборачивается война. Кто агрессор, а кто жертва понятно, но я хотел продемонстрировать, что страдают обе стороны конфликта. И неважно, кого мы считаем «хорошей» стороной, а кого «плохой»: последствия отражаются на обеих. И эти последствия ужасны. Это не романтическая история об армии, которую мы часто видим в фильмах. Возникает множество проблем, которые невозможно решить, все становится тоскливым и гнетущим. — В вашей книге почти нет элементов, которые бы рисовали героический образ войны. Вы только иногда упоминаете людей, которые рисковали жизнью за других украинцев, за братьев, за родину… — А еще за идею. Многие мои собеседники говорили, что они воюют за свободу. Один человек рассказывал, что если бы Украина напала на Россию, он, скорее всего, пошел бы воевать за россиян. Но произошло наоборот. Украина, как он решил, оказалась прогрессивной стороной: там произошла демократическая революция, люди боролись за лучшую жизнь. На них напал враг, который даже не преследовал каких-то своих интересов, не хотел что-то захватить, а просто стремился дестабилизировать ситуацию. — Если бы мне пришлось выбирать символ этой войны, я бы назвала Пески — город в предместье Донецка, что-то вроде Пясечно для Варшавы, который внезапно разрезала линия фронта. Вы описываете это как постапокалипсис: солдаты захватывают дома, всюду руины. Городок лежит на линии фронта, который кажется замороженным, но остается действующим. Как выглядят сейчас такие места, как они живут? Живут ли они вообще? Действительно ли они становятся все более независимыми от Украины? — Следует разделить то, что происходит в Луганске, и то, что происходит в Донецке. Еще до войны первый был менее развитым, его называли островом, забытой частью страны. Я был там в прошлом году, разница очень заметна. Донецк полон народа, всюду, кроме нескольких сильно разрушенных районов, продолжается нормальная жизнь: открываются новые рестораны, предприятия, многим людям удалось заработать на этой войне. В конце 2012 года я был в Донецке и разговорился с продавщицей в парфюмерном магазине. «Как цены? Наверное, все подорожало?» — спросил я. «В принципе стало дешевле: раньше мы закупали товары только на Украине, а сейчас и оттуда, и отсюда, мы диверсифицировали поставки», — ответила мне она. На улицах много людей, пробки. Отзвуки боев долетают до центра города, а когда ситуация обостряется, слышны залпы артиллерии. Но люди продолжают жить, они привыкли. До сих пор действует комендантский час, вечером выходить из дома нельзя. С другой стороны, в гостинице работает клуб, если сказать, что ты постоялец, можно просидеть там до поздней ночи и выйти после наступления комендантского часа. Все гибко. — В Луганске пусто? — Люди туда не вернулись. Сейчас там осталось меньше половины прежнего населения, около 40%, сложно сказать точно. Луганск производит гнетущее впечатление, хотя бои там закончились в конце сентября. — Я бы еще хотела спросить о сегодняшнем смысле этой войны. Страшнее всего то, что все закончится, как в других непризнанных республиках, например, в Приднестровье, сказали вы однажды. Иностранный журналист приедет туда, посмотрит и сделает репортаж об экзотическом образовании — парагосударстве. — Люди, которым захочется перенестись в Советский Союз, смогут приехать на это посмотреть, как в цирке. — Как эти республики живут, функционируют? Насколько они коррумпированы? Строят ли они какие-нибудь планы на будущее или просто выживают? — Зависит от того, как на это посмотреть, но перспектив у непризнанной республики мало. Если не случится ничего непредвиденного, что принципиально изменит ход событий, они продолжат влачить существование, которое, как в Приднестровье, будет оплачивать Россия, выделяя (все более скоромные) суммы на социальные нужды. В 2014 году многие надеялись, что все закончится так же быстро, как в Крыму или Донецке, а потом люди заживут, как в Москве. Сейчас от этих мечтаний ничего не осталось, никто не ждет никаких перемен. Ситуация застряла в мертвой точке. Все пытаются как-то выкрутиться, выжить, и хотя некоторым удалось на войне заработать, в основном люди от нее пострадали. Они живут благодаря гуманитарной помощи. Их положение зависит от того, где они очутились: хуже всего в прифронтовой зоне, где продолжаются бои. Некоторые города разделила линия фронта, некоторые оказались отрезанными от агломерации и постепенно угасают. Перспективы у непризнанных республик и населенных пунктов, находящихся поблизости от них, не слишком радужные. — Что это значит? — В своей книге я пишу, например о Марьинке, которая была частью донецкой агломерации: ее жители часто работали в Донецке. Сейчас там проходит линия фронта. Ее можно пересечь, но, конечно, только по неофициальным маршрутам. — Ценность вашей книги заключается в рассказах о солдатах: о том, как они воюют и понимают войну, о коррупции на границе и в войсках. Есть еще тема местных жителей: почему они никуда не уезжают, даже живя в прифронтовых районах. Я бы хотела узнать, как выглядела там журналистская работа, что сложнее: попасть в эти места, выжить, говорить с людьми? В книге есть рассказы жителей, военных, но очень мало бесед с сепаратистами, воюющими на противоположной стороне. — Сейчас сложнее всего заинтересовать редакторов, чтобы они решили что-нибудь у тебя купить. Что касается посещения сепаратистских территорий — это просто более сложное и дорогое мероприятие. Польскому гражданину сложно попасть на фронт: сепаратисты ведет себя осторожно, они не доверяют человеку с польским паспортом. Когда шли бои за аэропорт я несколько раз пытался получить доступ к «Гиви». — Это знаменитый герой сепаратистов. Он уже мертв, да? — Да, он погиб, его офис обстреляли из гранатомета. Когда «Гиви» услышал, что я поляк, он бросил трубку, на этом наш разговор закончился. В первой книге, которая была более поверхностной (я писал ее, когда война была в самом разгаре, и, скорее, просто описывал текущие события), мне было проще писать о сепаратистах, потому что я мог не вступать с ними в тесные контакты. Хотя между нами не было языкового барьера, разговаривать с боевиками было сложно, они просто не доверяют полякам. Исключение представляли только мои любимые герои, которые курили много марихуаны и охотно шли на контакт. — Значит, сложнее всего заинтересовать редакцию этой темой, найти деньги и получить возможность работать на Украине, кроме того, польскому журналисту сложно общаться с сепаратистами. На этой войне есть еще одна проблема: пропаганда, которую распространяют обе стороны. Я думала, она окажется в списке основных сложностей. — Это одна из проблем общего свойства, но для меня сейчас сложнее привлечь внимание редакторов. Пропаганда — серьезная помеха, надежных источников информации нет: все приходится подтверждать самому. Обе стороны описывают этот конфликт таким, каким им хотелось бы его видеть, а не таким, каков он на самом деле. Они искажают данные о раненых, убитых, количестве обстрелов. Рассказы сепаратистов — это полная абстракция, например, сообщения о том, что сто бойцов «Правого сектора» тайно перебрались в Турцию и разместились там в какой-то деревне. А украинский штаб рассказывает свое. Возможно, он не выдумывает факты, но… — Значит, они все же отличаются… — Да, потому что российская сепаратистская пропаганда занимается сочинительством. Она создает события, придумывает их. Был такой яркий пример: в российских и сепаратистских СМИ появились сообщения о том, что в результате обстрела Донецка украинским силами погибла маленькая девочка. Об этом говорили все, называлось даже имя этой девочки. Журналист BBC поговорил с местной прессой и выяснил, что пострадавшего ребенка на самом деле не было. Это была чистая фантазия. Украинцы, то есть их Генштаб, в свою очередь, замалчивают разные факты. Любопытно происходит с количеством обстрелов. Каждый день сообщается о 40-60 инцидентах, но эта цифра не имеет ничего общего с реальностью. Из моих разговоров с украинскими военными я выяснил, что в рапорты попадает не больше 10% событий. — Кто на самом деле там воюет? Кому противостоят украинцы? — Сейчас или в целом? — И сейчас и в целом. Я хотела узнать, какие слова вы используете, описывая стороны этого конфликта, а какие нет. — Я говорю «боевики», «пророссийские боевики», «сепаратисты», «пророссийские сепаратисты». Когда речь идет о российских военных, которые принимали участие как минимум в нескольких операциях, я называю их российскими военными. Слова «террористы», на которое, как я понимаю, вы намекаете, я не использую. — На Украине это название стало официальным. — Да, потому что официально на востоке Украины войны нет. Военное положение не объявляли, до сих пор продолжается «антитеррористическая операция», поэтому администрация президента и правительство заявляют, что они ведут борьбу с террористами. Я считаю, что так назвать их нельзя, потому что терактов они не устраивают. Когда заходит речь, что террористы используют тяжелую артиллерию и ездят на танках, с этим определением возникают проблемы: это выходит за рамки понятия «террористическая деятельность». На Украине действуют не террористы, там просто идет война. — Вслед за Сьюзен Зонтаг (Susan Sontag) (американская писательница, критик, эссеист — прим. пер.) вы много пишете об образе войны, который закрепился в нашем сознании. Часто на основе коротких сообщений в СМИ и фильмов мы представляем себе, что война постоянно наполнена адреналином. Она может быть трагической, но в ней всегда есть борьба. В вашей книге — это в первую очередь скука, которая несет в себе опасность: в любой момент все может рухнуть и превратиться в трагедию, но пока ничего не происходит, есть только тоскливое ожидание. — В украинской армии нет ощущения времени. Это становится большой проблемой, когда с кем-то договариваешься. Я, в свою очередь, всегда стараюсь быть пунктуальным, так на что на любую встречу приходится тратить полдня. — Рассказы ваших собеседников переполнены эмоциями на грани истерики: они говорят о жителях, в том числе тех, которые помогают сепаратистам, о надвигающихся фашистах. У вас есть секрет, как разговаривать с людьми? Я говорю не о знакомых, которые доверяют вам, а вы доверяете им, а о случайных людях, свидетелях каких-то событий. — Когда я не знаю, как реагировать, я всегда просто поддакиваю. Это действенный метод. Но этот конфликт сделал меня черствым, раньше я был более открытым, но из-за этого стало возникать все больше проблем. Когда я понимаю, что кто-то рассказывает мне небылицы, я просто говорю «ладно», потому что такой разговор не имеет смысла. — Вы понимаете, почему люди не покидают фронтовые районы? — Они боятся оставить свои дома. Донбасс — специфический регион, до войны люди тоже редко из него уезжали. Многие не готовы оставить свое жилье, хотя нам это может показаться странным: мы понимаем, что если вся деревня уже разрушена, их хата тоже может скоро рухнуть. Но дом для этих людей — это все, что у них есть. Их никто не ждет, им некуда ехать. Я много раз слышал от таких оставшихся людей, что они не нужны ни России, ни Украине. Им некуда деваться. С одной стороны, никаких вариантов не предлагает им Россия, с другой — у Киева тоже нет для них квартир или социальной помощи, чего-то, что позволит им начать новую жизнь. Во многих населенных пунктах это стало серьезной проблемой. Люди переезжают в ближайшие города, уже в 70-100 километрах кажется, что войны нет. Там чуть больше военных, но обстановка спокойная, все живут своей жизнью. В местах, куда съехалось много народа, начались проблемы с работой, выросли цены на жилье, продукты. Именно поэтому решение об отъезде становится таким сложным. Западная Украина в этом плане гораздо мобильнее: местные жители поколениями ездили за границу. Им легче принять решение, собрать вещи и уехать. На востоке люди привязаны к своему дому. — Вы много пишете о коррупции, алкоголе и наркотиках на фронте. Есть ли какие-то запретные темы, которые, как вам кажется, старается не затрагивать большинство СМИ, в особенности украинских? — Самая главная тема, которую обходят молчанием, это то, что когда используется тяжелая артиллерия, гибнут мирные граждане. Неважно, каковы намерения ведущих обстрел, просто когда действует артиллерия, идет в ход огромный калибр, страдает мирное население. Об этом никто не говорит. Я не могу припомнить ни одного материала в украинских СМИ о том, что в результате украинского обстрела кто-то погиб. Я не осуждаю, а просто призываю понять, что так устроена война. В романтических историях одни стреляют и убивают, а другие только обороняются. Но все выглядит иначе. — Многие из ваших героев — люди с левыми или анархистскими взглядами, пожалуй, это многое говорит о вас самом. — На самом деле их было не больше 20. — Значит, это говорит что-то обо мне как читателе. Я хотела спросить как раз об этом: об идеологии. В Польше мы постоянно анализируем явление украинского национализма. Ведь это естественный процесс: когда на страну нападают, там пробуждается гражданственность, патриотизм, а заодно неизбежно и национализм. Из вашей книги следует, что вступить в «Правый сектор» или батальон «Айдар» людей склоняли отнюдь не националистические взгляды. — Национализм, как в каждом обществе, там, конечно, есть, было бы странно, если бы Украина выступала в этом плане исключением. Во время войны такие тенденции, разумеется, усиливаются. Особенно это было заметно вначале, когда ультраправые первыми отправились на фронт. Тема милитаризма и борьбы были у них на слуху давно. Боец «Правого сектора» рассказывал в одном документальном фильме о своем лидере Дмитрии Яроше: «я уже устал его слушать, он 10 лет подряд рассказывал о грядущей войне, и вот она наконец началась». Некоторые люди давно к ней готовились. Идеология всегда играла в «Правом секторе» второстепенную роль. Его активистам в первую очередь хотелось воевать. Любопытно, что их военное крыло откололось от политического. Эти люди не любили армию, полицию и руководствовались разными мотивами: они хотели просто воевать или воевать за Украину. Националистов среди них было мало. Я познакомился с множеством украинцев, которые не придерживались националистических взглядов, не ходили на Майдан и не считали, что он был нужен, но когда началась война, решили, что они обязаны защищать свою страну. Был один неонацист, который сбежал с фронта спустя два месяца, испугавшись боев. С другой стороны, существует полк «Азов» — ультраправая угроза. Но «Правый сектор», хотя именно так его называют СМИ, ее собой не представляет. Опасность связана с тем, что «Азов» старается заменить государство там, где оно не может выполнять свои функции. Например, зимой, когда начинаются проблемы с уборкой снега, можно всегда позвонить в «Азов» и вызвать его бойцов расчистить улицу перед домом. Это выглядит забавным, но такое делегирование государственных функций — опасная тенденция. В «Азове», например, в отличие от «Правого сектора» велась идеологическая подготовка. Там появлялись странные персонажи из неонацистского движения России. Российские неонацисты часто не любят Путина, а российские правые имперцы, наоборот, воюют на стороне сепаратистов и его поддерживают. Такое странное политическое деление существует на постсоветском пространстве. Но я бы не сказал, что национализм (если опустить полк «Азов») представляет сейчас угрозу. — Вы умеете выйти из журналистской роли, вернуться домой и забыть? Или вы поддерживаете контакты со своими героями? — Я стараюсь это фильтровать. Когда конфликт только начинался, меня пугал каждый шум и звук, например, гудки поезда в метро. Но это быстро прошло. Раз те, кто уехал с фронта, закончив службу, могут с этим справиться, то почему я не могу? Какую бы работу ни делал журналист, как бы он ни втягивался в нее, он никогда не будет погружен в это, как человек, живущий на территории, по которой прошел фронт, или военный, который находится на боевых позициях. Сколько бы времени я там ни провел, я все равно присутствую там временно. Были такие эпизоды, которые надолго застревали у меня в памяти, но когда я написал книгу, стало лучше. Что касается героев, контакты с некоторыми я поддерживаю, а более интенсивно общаюсь с теми, кто перебрался в Польшу. — Ваша книга показывает все связанные с войной ужасы, а одновременно рисует портреты героев, которые борются с ней, не теряют присутствия духа, посвящают свою жизнь защите Украины. Какой репортаж писался сложнее всего? — Таких репортажей было несколько, например, о литературной группировке СТАН. Мне было очень сложно понять, что движет героиней. — Которая вошла в состав сепаратистской администрации… — Да, хотя ничто этого не предвещало. Все думали, что она, скорее, займет сторону Украины. С ней было сложно общаться, она очень замкнутый человек. Она боялась говорить, я это чувствовал. — Сложности в работе над текстом возникали потому, что было нелегко понять ситуацию, или потому, что в такой критический момент, когда идет война, тяжело писать, например, о коррупции на фронте? — Мне очень не хотелось, чтобы книга казалась каким-то осуждением в адрес Украины, я боялся, что так это все может прозвучать, что я использую слишком категоричные формулировки. Я старался найти нюансы, в некоторых местах я «завис», поэтому работа над книгой затянулась. Самые большие сложности у меня были с этим. Агнешка Лихнерович (Agnieszka Lichnerowicz) Фото: AFP 2017, Aleksey Filippov Теги: ИноСМИ
<Рейтинг статьи:
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.